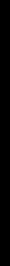Interview with Karen Khachaturyan (the pupil of Shostakovich) in russian
"Российский музыкант" №3 (1250) 2007
Композитор Карен Суренович Хачатурян — один из старейших профессоров Московской консерватории и один из немногих здравствующих учеников Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. О Шостаковиче, о времени и о себе проф. К.С.Хачатурян рассказал своему ученику Ярославу Судзиловскому.
МУЗЫКА ТРЕБУЕТ АБСОЛЮТНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЕ
 — Карен Суренович, закончился юбилейный год Шостаковича... — Карен Суренович, закончился юбилейный год Шостаковича...
— И мне немножко жутко становится оттого, что ему сто лет исполнилось! Я ведь помню его молодым, на невероятном творческом подъеме. Он был очень подвижным, энергичным, великолепно играл на рояле. Я учился у него в то время, когда были написаны Восьмая и Девятая симфонии, Скрипичный концерт...
— Вы хорошо знали Дмитрия Дмитриевича. Каким он был с друзьями, с учениками?
— Немного замкнутым и сосредоточенным, но в минуты общения удивительно милым и обаятельным.
— Вы видели его жестким?
— С ним было непросто, когда он был занят, когда внутри него происходила какая-то работа. Должен сказать, что Дмитрий Дмитриевич в этом смысле личность уникальная, он невероятный труженик. Я не знаю, был ли день, когда он не думал о своих замыслах, о новых сочинениях. То есть это была непрерывная преданность делу, своего рода жертвенность.
— Я, например, слышал, что Прокофьев мог жестко «отрезать» человека. А Шостакович очень многим давал лестные характеристики.
— Он был очень снисходителен, и его мучили просьбами разные люди. Был один музыковед, который написал труд о гармонии, издал на шикарной бумаге и попросил у него отзыв. Шостакович согласился. Но он был такой человек, что не мог дать отзыв, не читая книги. И он начал ее читать. Книга была толстая и скучная, но он поставил перед собой задачу читать в день по сорок страниц. Честно читал. Если страница заканчивалась на слове «что», то «бы» он читал уже на другой день.
— Как проходили Ваши занятия?
— Необычно и интересно. На каждом уроке он требовал, чтобы кроме своих сочинений мы обязательно открывали для себя новую музыку или нового автора. После войны из-за рубежа в Россию пошел поток нот и записей, и там попадались замечательные произведения. В частности, Симфония псалмов Стравинского, которую Шостаковичу прислали из США. Он сделал четырехручное переложение, и мы играли его на уроках. Мы вообще часто играли в четыре руки, читали с листа (он и сам прекрасно читал с листа).
— Вы занимались группой или индивидуально?
— Мы приходили на урок к определенному часу, потом сидели вместе до конца, слушали каждого и учились на опыте своих товарищей.
— Стравинский вспоминал, что Римский-Корсаков в качестве практических заданий по инструментовке давал ученикам отрывки из своих сочинений. А потом сравнивал их инструментовку с образцом — собственным оригиналом. Делал ли Шостакович что-то подобное?
— Нет, никогда.
— Чему Вы научились у Шостаковича?
— Я очень многое понял в ремесле, в отношении к делу, какие-то вещи для меня открылись с совершенно неожиданной стороны. Шостакович мог, например, сказать: «Вы знаете, вот здесь все очень хорошо… А вот здесь скучно – эти две страницы я бы выбросил…» Я, разумеется, удивляюсь: «Как это? У меня же здесь заключительная партия!» А Шостакович в ответ: «Ну, не будет заключительной партии». Оказывается, все просто. Он умел очень точно делать замечания.
— Некоторые считают, что композиции надо учить. Шостакович что-нибудь подобное говорил?
— Никогда. Мне кажется, что научить можно форме, гармонии, полифонии. А композиции… Как этому научить? Изначально нужно иметь дар, воображение. Это совсем другое.
— Могли бы Вы что-нибудь рассказать о Стравинском?
— У нас были очень доверительные отношения. Он даже в своей книге «Диалоги» довольно много сказал обо мне. Я был с ним всё время, пока он гастролировал в России, и он пишет, что «с Кареном мы много беседовали о музыке, обо всем прочем, и говорили только откровенно».
— Что он говорил о нашей музыке?
— Он очень критично высказывался.
— Шостакович был ему известен?
— Шостакович был известен ему с юношеских лет, с Первой симфонии. После нее он следил за появлением каждого нового сочинения Шостаковича, если оно доходило до Запада. Но потом у него сложилось впечатление, что Шостаковича сломали.
— В какой период, с его точки зрения, что произошло?
— В эпоху «ждановщины», когда искусство создавалось только с одобрения вождя всех времен и народов. Он считал, что Шостакович очень талантлив, но не смог развернуться в полной мере. Но это его мнение. Мне кажется, что Шостакович выдержал единоборство со Сталиным, и Сталин понимал, что это выдающийся музыкант.
— Шостакович когда-нибудь говорил с Вами о Сталине?
— Нет, никогда. Он был очень «не болтун».
— То есть он держал в себе все эти переживания?
— Можно сказать и так. Но они всё равно отразились в его «Райке» и других пародиях.
— «Ждановщина» — это 1948 год. Вы уже заканчивали учиться. Ваши ощущения от происходящего?
— Ужасные. После печальной памяти партийного постановления мое имя привлекло внимание деятелей Отдела культуры ЦК. Как же – ученик Шостаковича, было бы здорово заставить его выступить с разоблачительной речью. Появились какие-то люди, предложили выступить на собрании и поведать, как давил на меня Шостакович, как заставлял заниматься формализмом. Я стал отказываться, но потом сообразил, что они не отстанут, а я могу этим воспользоваться. Посоветовался с Борисом Чайковским, Борисом Чугаевым, Германом Галыниным и рассказал, какое великое счастье учиться у такого замечательного профессора. Это вызвало разную реакцию, но люди порядочные, такие как Ойстрах, подходили и говорили: «Молодец!»
— Как отреагировало на Ваше выступление консерваторское руководство?
— Поначалу никак. Но на следующий год я оканчивал консерваторию, и мне хотели поставить двойку за «идеологический вывих». Хотя показывал я помимо прочих сочинений и Скрипичную сонату, за которую двумя годами ранее, на фестивале в Праге, получил первую премию. К тому времени Шостаковича уже убрали из консерватории, и всех его учеников взял Мясковский. Они были абсолютно разные, но это одна питерская школа, идущая от Римского-Корсакова. На том экзамене кто-то требовал «тройку», кто-то «двойку». А Мясковский сказал: «Мне его учить нечему», — и поставил «пять». Потом сложили все оценки и получилось итоговое «четыре». Однако председатель комиссии Чулаки всё равно настоял на «двойке».
— Но закончилось всё благополучно?
— Благодаря Мясковскому. Он мне сказал: «Я Вам ничем помочь не могу, Вы должны сами показать зубы». — «Как?»— «Попробуйте обратиться в комсомол». Пошел я в ЦК комсомола, рассказал всю эту историю, и Михайлов — был такой комсомольский деятель — пообещал мне помочь. И действительно помог. После теоретического экзамена, где мне достался вопрос о борьбе формализма и реализма в советской музыке, Чулаки собрал комиссию и говорит: «Вы знаете, экзамен показал очень высокий уровень. Идеологически все подкованы. Я ошибся, когда поставил Хачатуряну "два”. Но после сегодняшнего экзамена я всё исправлю». И переправил «двойку» на «пятерку».
— От одного своего коллеги я услышал следующее: никто уже не станет таким великим, как Шостакович, Бетховен, — все это ушло безвозвратно... Справедливо ли выносить такой приговор всем последующим поколениям?
— Не знаю. Я к таким высказывания отношусь скептически. Хотя должен сказать, что сейчас время трудное, много какого-то штукарства, несерьезного отношения к делу. А ведь музыка очень ревнива. Не терпит никаких отвлечений и требует абсолютного посвящения себе. Если так относиться к музыкальному творчеству, то будет результат. Вот пример: Борис Чайковский — один из самых ярких и талантливых композиторов моего поколения. Слушая его музыку, сразу скажешь, что это Борис Чайковский. Он не занимался штукарством. Но сказать, что он несовременный, нельзя. Почему-то считается, что современная музыка — это то, что пишется в системах, созданных в 60 — 70-х годах.
— Но это уже «ретро» получается, не так ли?
— Конечно. К тому же «ретро», стирающее творческую индивидуальность. У меня была такая игрушка — Ванька-встанька. Ее качнешь, и она валится туда-сюда и при этом издает звук такой характерный. Я ее называл «Булез», потому что она напоминала мне его музыку. Хотя Булез был значительный музыкант и очень хороший дирижер. Стравинский считал его дирижером с абсолютным чувством ритма. Он очень много и хорошо играл Стравинского.
— Карен Суренович, каково, на Ваш взгляд, будущее нашей профессии?
— Мне кажется, что сделано так много важных и полезных свершений, что в будущем, не без помощи всех этих открытий, мы могли бы получить какой-то свежий неожиданный сплав. Россия — и здесь я абсолютно солидарен со Стравинским – уникальная страна. Во-первых, огромное пространство. Во-вторых, разные народы, разные культуры – все это в одном большом котле плавится. Вливание крови одной нации в кровь другой дает поразительные результаты. И в этом смысле у России грандиозное будущее. Я уверен, что в этом смешении возможно огромное количество гениев, и работа заключается в том, чтобы их вовремя открыть.
|